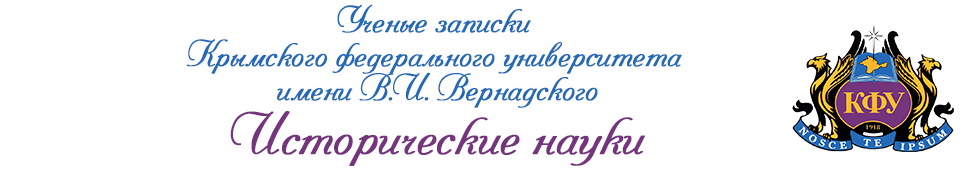СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МЕДРЕСЕ КАК ИНСТРУМЕНТ И ФАКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ: КРЫМСКИЙ АСПЕКТ
MEDIEVAL MEDRESE AS INSTRUMENT AND FACTOR OF STATE POLICY: THE CRIMEAN ASPECT
JOURNAL: «SCIENTIFIC NOTES OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE» Volume 11 (77), № 3, 2025
Publicationtext (PDF): Download
UDK: 94(3:477.75):297.17
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS: Shulman K. D., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1741-2025-11-3-144-159
PAGES: from 144 to 159
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: madrasahs; state policy; Middle Ages; Early Modern Times; Crimean ulus; Crimean Khanate; Islamic spiritual education.
ABSTRACT (ENGLISH):
The paper deals with the organisation of the system of medieval spiritual-educational institutions of secondary and higher level (madrasahs) in the territory of Crimea. Emphasis is placed on aspects, evidence and methods of inclusion of pupils and leaders of these institutions in the system of state management of political formations in the territory of medieval Crimea: the Crimean ulus of the Golden Horde and the Crimean Khanate. On the basis of analogies from other regions, a hypothesis is put forward about the leading role of the madrasah institution in the management of the population and territories of Crimea during the period of dominance of political entities whose state religion was Islam. The study attempts to reconstruct the system of internal self-governance of madrasahs (issues of the educational process) and their presumably centralised external governance. The questions of the source base problems of studying the documentary and monumental heritage of the Crimean Khanate are raised.
Тезис о важной роли медресе в системе государственного управления на территориях с мусульманским населением высказывался неоднократно. Однако распространенность этого утверждения, по мнению автора, не избавляет от необходимости его доказательства в каждом конкретном случае с учетом местного материала. Цель данной работы – проследить роль медресе в системе государственного управления на крымском, преимущественно позднесредневековом материале, выявить возможные аналогии между ситуацией в Крыму и в других регионах мусульманского мира.
Крымские средневековые медресе – мусульманские духовно-образовательные учреждения второй ступени (после мектебов). В период существования Крымского улуса (XIII–XIV вв.) Золотой Орды их создание было одним из важных способов укоренения норм шариата и исламской культуры среди населения, проживавшего на этой территории. В Крымском ханстве медресе стали традиционным институтом, который использовался для формирования системы социальных отношений, в том числе и отношений «власть-подданные». Крымские ханы поощряли финансированием и имущественными пожертвованиями постоянное пополнение сословия ученых-проповедников – улемов из числа выпускников медресе. А уже эти выпускники способствовали закреплению идеи сакральности ханской власти на всех уровнях – от низового в момент произнесения хутбы в мечетях до высшего представительства в Диване (ханском совете) муфтиями. Зафиксированная во второй половине XVII в. Эвлией Челеби хутба, произносимая в Крыму, содержала имена всех Гиреев, от текущего до первого правителя в роду, Хаджи-Гирея: «В хутбе сначала идет имя Бога, потом Мухаммеда-Избранника, потом четырех чистых друзей и сына дяди Пророка, и шехидов Кербельской степи, затем слуги священных городов, владыки царей арабов и неарабов, двух Ираков, султана двух суш и хакана двух морей, султана Мухаммед-хана, сына Ибрахим-хана Ахи Гази Мурад-хана, сына султана Ахмед-хана, потом господина Кыпчака и Солгата, обладателя мощи и силы, султана Гази Мухаммед Герай-хана, сына султана Селямет Герай-хана, сына султана …Говорят до Сахиб Герая, Хаджи Герая, Менгли Герай-ханов, поминают в хутбе предков ханов» [1, с. 103]. Особенного внимания в свидетельстве Эвлии Челеби заслуживает упоминание роли ученых в процессе заседания Дивана в особо предназначенном для этого помещении бахчисарайского Ханского дворца – кёрюнюше: «Далее, с правой стороны, стоят ханифитский шейх-уль-ислам и главы трёх других мазхабов – муфтии. С левой стороны стоят кадиаскер Муртаза Али-эфенди, ниже его городской мулла и двадцать четыре кадия Крымского острова. Они разбирают решения, приходящие из их каза, изучают и разрешают споры и претензии. Не дай Бог, если кто-нибудь из них нарушит Шариат или засудит какого-нибудь слабого раба. На этом собрании татарские учёные этого незаконно судящего кадия побивают камнями. Совершенно не дают пощады». После этого муфтий (или, возможно, все муфтии) вместе с ханом принимал участие в трапезе, устроенной по шафиитскому мазхабу, с обязательным приготовлением конины [1, с. 99].
Перед тем, как непосредственно приступить к рассмотрению заявленной темы, следует охарактеризовать некоторые особенности источниковой базы, на которой строятся исследования истории крымских медресе.
Одной из причин проблем, существующих в данном вопросе, на наш взгляд, является специфика менталитета проживавшего здесь в указанное время населения. Она проявилась в отсутствии необходимости фиксации очевидного знания, отражения обыденных для современников фактов в письменных документах. Такое положение привело к отсутствию достоверных сведений об изучаемых объектах на протяжении десятилетий. Очевидно, что некритическое восприятие имеющейся в распоряжении исследователя дискретной информации может привести к существенным искажениям исторических фактов. В целом причины «источниковых лакун», связанные с предметом нашего исследования, можно разделить на две категории. К первой следует отнести потери источников вследствие происходивших на территории Крыма исторических событий. Например, с боевыми действиями и сожжением в ходе захвата Бахчисарайского ханского дворца связывают утрату архива Крымского ханства в XVIII в. Среди причин второй категории следует отметить особенности «восточной традиции». Тенденция «некритического подражания» среди представителей восточной традиции [2] приводит к выборочной передаче важнейших для истории крымских медресе фактов. Так, даты основания, приобретения вакуфного имущества, строительных периодов и т.д. даются, в лучшем случае, на основании зафиксированной в начале XIX в. легенды, и хорошо, если исток этой легенды известен. Так, например, строительный период 1748 г. в истории Зынджирлы-медресе, связанный с именем хана Арслан Гирея, дал основания упоминаниям хана в качестве строителя медресе вообще и упоминания медресе под именем «медресе Арслан-Герай-хана» [3, л. 15]. Существование в Средние века при большой евпаторийской мечети медресе выводится из предания о том, что в 1621 г. в гезлёвском медресе при Хан-Джами преподавал ученый Сеит Абдул-Керим Шерефи Кефели. Предание сохранилось в жизнеописаниях присутствовавшего на этих лекциях юного Ашика Умера [4, с. 155].
Многие материалы середины и конца XIX в. для исследователя XXI в. являются первоисточниками, хотя выполнены были как исследования – например, учебные экскурсии Симферопольской мужской казённой гимназии, в рамках которых упоминались оказывавшиеся на пути экскурсантов «духовные училища татар» [5, с. 62; 6, с. 71]. К сожалению, отсутствие в них ссылки на источник информации зачастую приводит к утрате исторического контекста.
Исследовательская проблема содержится и в оценке сведений источников первопубликатора (или переводчика). Так, книга И. Тунманна «Крымское ханство» содержит информацию не только о медресе в период независимого Крымского ханства (1774–1783), но даже и о предметах, которые в них преподавались: «Они имеют муфтия, своих мулл, своих коджей, своих кадиев; эти последние – их судьи. Они молятся в своих мечетях (месджидах) и джами пять раз в день, копают колодцы и учреждают ханы (каравансараи), чтобы быть угодными Богу, но не преследуют никого за его религию. У них имеются школы, где объясняется Коран и преподаются другие менее важные науки» [7, с. 28]. Под «коджами» – «ходжами» переводчик и комментатор Н. Л. Эрнст видит учителей в духовных школах. Он же полагает иронию в словах Тунманна о главенстве Корана [7, с. 81], в то время как для всех, знакомых с реалиями преподавания в медресе – это совершенно обычная практика, изучение Корана – действительно самое важное занятие в мектебах и медресе [5, с. 62]. Необходимо сделать оговорку о том, что сам Тунманн в Крыму, вероятнее всего, не был, и цитировал иных путешественников. Это вызывает у исследователей закономерное недоверие к сообщаемым им сведениям; однако в пользу их достоверности говорит точность терминов и названий должностей, редкая для европейских передатчиков восточной лексики.
Исследователь крымских медресе имеет дело с парадоксальной ситуацией: имеются существующие в разной степени целостности строения, действительная судьба которых (и история находившихся в них организаций) на протяжении долгого времени неизвестна. Он видит в документах XVIII и XIX вв. перечисление медресе в населенных пунктах и понимает, что эти же медресе существовали на том же месте и в тех же зданиях и за несколько веков до того. Однако, обращаясь к сохранившимся историческим документам периода Крымского ханства, он видит не топонимическую, а эпонимную привязку по именам то ли жертвователей, то ли руководителей учреждения.
Так, например, Зынджирлы-медресе не носило такого названия вплоть до первой трети XIX в., а называлось медресе Менгли-Гирея (до 1823 г. включительно) [8, с. 36–42]. Не было в синхронном аутентичном обиходе и конструкта «медресе Ханского дворца». Иногда же принцип появления названия некоторых медресе вообще пока не ясен. К числу таких примеров относится бахчисарайское Орта-медресе, название которого перекликается с названием близлежащей мечети Орта-Джами. В обоих случаях слово «орта», как и в турецком языке, означает «среднее» [9, с. 178]. В случае названия медресе равно верными по факту отсутствия указаний в источнике можно считать версии о том, что это географически «срединное медресе» между Зынджирлы-медресе и медресе Ханского дворца, и о том, что это медресе мечети Орта-Джами, учитывая важнейшую связь медресе и мечети в исламском обществе.
Наконец, нужно остановиться на археологических и архитектурных атрибуциях и выводах. Они при отсутствии письменных источников являются практически единственным способом аргументировано говорить о каких-либо строительных периодах в истории зданий медресе. Здесь важно отметить, что закрытые строения портально-галерейно-купольной конструкции с внутренней общежительной структурой – это не только медресе, но и ханака, и текие. Поэтому для обширной территории от Крыма до Бухары дискуссия о том, чем является археологически выявленное здание такого плана, не завершена. И это верно для всех случаев, где не обнаружено убедительных археологических доказательств, позволяющих говорить о функциональном назначении этих зданий. Для подобных, не до конца исследованных «гипотетических медресе», корректным является утверждение, сформулированное Э. Д. Зиливинской: «…постройка, которая, несомненно, связана с мусульманской религией и является ханака или медресе, однако планировка ее полностью не выявлена» [10, с. 129]. Множество известных по письменным источникам медресе (например, в Казани) не выявлены археологически, а на некоторых известных не были проведены археологические работы по разным причинам. Вопросы датировки в этом случае решались археологами и представителями этнографических экспедиций на основе «датировки, приводимой информаторами» и «народной традиции, приписывающей постройку времени/человеку X», имея в виду сведения от местных жителей, имеющие легендарную основу [11, с. 108]. Практически всегда идея о том, что раскапываемый объект является медресе, возникала у исследователя уже в процессе археологических работ, что приводило к десятилетиям дискуссий о достоверности фиксации процесса раскопок и отражении реального плана сооружения [12, с. 191–200]. Все эти уточнения необходимы в каждом случае обращения к столь специфическому объекту исследования.
Начиная предметное рассмотрение роли медресе в структуре государственной власти, отметим, что осознание важности использования медресе для контроля населения занимаемой мусульманами территории, пришло к исламским правителям достаточно рано. По словам французского социолога Гюстава Лебона, «мусульмане занимались науками с огромным рвением. В любом городе, которые они захватывали, первое, что они делали, это строили мечеть и впоследствии университет. Это привело к появлению величественных учебных заведений в огромном числе городов» [13, с. 557–558].
Собственно, медресе в первоначальной концепции, – это не территория и не здание, а процесс обучения, который во времена Пророка шел от взрослых к взрослым в мечетях с постепенным приобщением все более юного населения к исламу. Необходимость пространственного выделения медресе из мечети появляется, когда предводители общины понимают необходимость пространственного закрепления в сознании населения «Дома мудрости». В нем может получить знания любой, изменив вместе с этим при желании и свой общественно-социальный статус.
Среди первых примеров реализации такой концепции отметим Дом Мудрости, Байт аль-Хи́кма, построенный в 827 г. в Багдаде халифом Абу Джафаром аль-Мамуном (813 – 833 гг.). В прямом смысле «медресе» это заведение не было, однако оно, как и медресе, подчинялось двум главным принципам постройки. Во-первых, – подведение материально-технической базы под создание собственной школы идеологических сторонников. Аль-Мамун симпатизировал учению мутазилитов, и Дом мудрости должен был обеспечить сторонников этого учения богатым фактическим материалом для дискуссий, в первую очередь трудами по философии [14, с. 108]. Во-вторых, привлечение наиболее известных ученых, посредством предоставления им финансовых и социальных благ, и уникальной источниковой базы: по некоторым данным, Аль-Мамун поощрял переводчиков и учёных пополнять библиотеку в Доме Мудрости, выплачивая им вознаграждение золотом соразмерно весу каждого подготовленного труда.
Подобные духовно-образовательные центры создавались по такому же принципу в XI в. по личной инициативе Низама аль-Мулька, визиря Хорасана, и назывались «Низамии». Они уже точно атрибутируются как медресе. Низамии были построены практически в каждом более или менее крупном городе подконтрольной Хорасану территории, среди которых: Багдад, Нишапур, Балх, Герат и Исфахан. Низамия была построена даже в дагестанском селе Цахур [15, с. 603–605].
Рассмотрим подробнее использование медресе для укоренения норм шариата и исламской культуры среди населения Крыма в Средневековье.
Обстоятельства появления ислама на полуострове во многом остаются дискуссионной темой, опирающейся на сведения Насира ад-Дин Яхья б. Мухаммада (Ибн ал-Биби). Им сообщается в «Сельджук-намэ» о захвате по приказу сельджукского правителя Румского султаната Ала-ад-дина Кейкубада в 1221–1222 гг. Судака. Перед возвращением войска завоевателей «меньше чем в две недели выстроили прекрасную соборную мечеть. Установили в городе должности муэззина, хатиба и кади» [16, с. 59]. В целом за сельджуками признается первенство в использовании медресе (например, конийских) как опоры исламизации занимаемой ими территории. По мнению некоторых исследователей, они осуществили «контрпереворот» в пользу сунны и превратили медресе из частных школ или кружков вокруг учителя в официально признанный государством институт [17, с. 317]. Однако в данном случае, на основании отсутствия упоминания в источниках медресе или ученых в Судаке в этот период можно заключить, что «дополнительная исламизация» этой территории не входила в цели инициатора похода. Кади назначался, вероятно, для регулирования отношений уже живущих в городе мусульман.
Описывая золотоордынский период, ряд исследователей подчеркивает, что золотоордынские ханы нашли опору в исламском вероучении в процессе упрочения централизованной власти в самой Орде. Принятие этой религии также позволило им претендовать на поддержку исламских правителей Египта и Сирии. Следы личной политической воли в укоренении норм шариата среди населения Крыма в контексте появления медресе можно зафиксировать в правление хана Берке. «История Тохта Бая», средневековое крымскотатарское историческое произведение, существование которого зафиксировано Эвлиёй Челеби, содержит следующую информацию: «Затем в 665 (1266/67) г. [Берекет Хан] с восемьюдесятью тысячами воинов направил лошадей из Крыма в Балх, Бухару, Туран, Чин-Мачин, Хата, Хатан, Фефгур и Туркестан и заставил подчиниться всех непокорных падишахов. И, собрав около тысячи восьмисот учёных-шейхов, привёл их с почестями в остров Крым, построил всем учёным соборные мечети и медресе…» [выделено мной – К. Ш.] [18, с. 3–8]. Издающих фетву ученых насчитывается до трех тысяч. «С их помощью Берке хан обретает славу!». При этом нужно учитывать политический характер религиозных предпочтений хана Берке, менявшихся в зависимости от его непосредственных военных и дипломатических целей [19, c. 673].
Говоря о соотношении факторов, влияющих на исламизацию Золотой Орды, в ареал влияния которой Крым попадает в XIII в., и особенностях развития исламской культуры на полуострове, приведем следующий пример. Некоторые исследователи, например, Э. С. Кульпин, Р. Ю. Почекаев, Г. А. Федоров-Давыдов считали, что становление ислама в качестве государственной религии Золотой Орды не привело к тотальной исламизации общества. Однако ее попытки со стороны правителей, очевидно, не прекращались. Выделение денег на постройку первого известного крымского медресе – медресе «хана Узбека» (Солхатского медресе) приписывается знатной жительнице Солхата, Инджибек-хатун. Она, по мнению И. А. Керимова и ряда исследователей, являлась женой Кутлуг-Тимура, наместника Солхата. Этот вклад был, вероятнее всего, личной инициативой этой знатной женщины. Однако этот поступок следовал в русле общей поддержки наместниками Крымского улуса правящего ордынского хана. Таким образом закреплялась политика правящего хана Узбека, сделавшего Солхат «религиозным очагом» (Кутлуг-Тимур, по Рашиду-ад-Дину, был особо доверенным лицом хана, предупредив того однажды о готовившемся на него покушении монгольских эмиров-чингизидов). Кроме того, по мнению многих исследователей, Солхатское медресе – единственное точно атрибутируемое среди золотоордынских медресе [10, с. 129]. К вопросу об атрибуции медресе по названию – медресе-мечеть носит во многих историографических трудах название в честь хана Узбека из-за постройки в период его правления и легендарной основы – идеи о том, что постройка велась по его распоряжению на его деньги. Некоторые исследователи применяли формулировку «хан велел построить в Солхате мечеть и медресе» [20, с. 13]. Это утверждение, как и первичность мечети в комплексе, в настоящее время оспаривается главным исследователем старокрымского памятника, М. Б. Крамаровским [21, с. 124–127]. В настоящее время Инджибек-хатун считается жертвователем и инициатором постройки медресе, о чем свидетельствует и ее погребение в дюрбе в одном из бывших помещений медресе.
Успешность личных усилий центральных правителей (ханы Берке и Узбек) и их наместников (Кутлуг-Тимур) по созданию в Солхате духовного центра можно проследить в сообщении о формировании вокруг «Солхатской академии» сословия улемов, которых видел Ибн Батутта во время своего путешествия в XIV в. [22, с. 280].
Зафиксировать наличие ученых в средневековом мусульманском крымском обществе можно также путем анализа формы некоторых надгробий этого периода. В полевом дневнике 1925 г. руководитель Солхатской (Старо-крымской) экспедиции, ученый и исследователь А. С. Башкиров использовал для обозначения формы надгробий Кырк-Азизлера (некрополя Эски-Юрта) слово «медресевидное» без пояснений. Научные результаты археологических исследований в Эски-Юрте были изложены А. С. Башкировым и У. А. Боданинским в статье «Памятники крымскотатарской старины: Эски-Юрт», опубликованной в журнале «Новый Восток». Там дается пояснение этому термину. Усеин Боданинский прослеживал связь с малоазиатским регионом у этих форм в примечаниях к статье: «Двурогие надгробия Кырк-Азизлера совершают интересную эволюцию: основной корпус их и двурогие части надгробий принимают формы архитектурных деталей и не каких-либо фантастических, а вполне реальных образцов монументальных сооружений. В подобных памятниках формы настолько иногда реалистичны, точно они выполняют по особому заказу монолитные архитектурные модели. Сюжетом для этих своеобразных моделей (или архитектурных реплик в миниатюрных формах), являются монументальные сооружения погребального культа и связанные с ними соответствующие пристройки. За образцы берутся разные формы дюрбе (мавзолеи) и примыкающие к ним длинные галерееобразные медресе или базиличного типа формы мечети <…> в монументальной архитектуре одно дюрбе с могилой какого-либо уважаемого человека с пристроенным к нему коридорообразным медресе, а иногда два дюрбе, соединенные медресевидным корпусом, встречаются по всему мусульманскому Востоку и в особенности в Турции (напр., в Бруссе и др.)». В связи с этим автор выдвигает предположение о том, что подобная архитектурная форма надгробия – способ указать связь погребенных с сословием ученых и с конкретным зданием медресе, в котором они, возможно, преподавали или получили образование [23, с. 413].
Говоря о корректных для проведения аналогий территориях, в первую очередь, нужно отметить остальные «осколки Золотой Орды», с родственным этнически и религиозно населением, хотя и со своей географической спецификой. Под ними понимаются постзолотоордынские ханства, чей период самостоятельности (и период феодального средневекового устройства) заканчивается присоединением к Русскому царству (позже – к империи). Это происходит в 1552 г. для Казанского, 1556 г. для Астраханского, 1580-х гг. для Сибирского ханства. Ликвидация Ногайской Орды произошла в 1634-м г., Касимовского ханства – в 1681 г. Присоединение Крыма к Российской империи в этой цепочке было последним.
Для жителей этих территорий – татар и татарской интеллигенции, особенно в XIX в., характерна сильная рефлексия по «славному средневековому прошлому», особенно по великолепному, по их представлениям, образованию того периода. Особо коллективная память сохранила усилия правителей – ханов по поддержанию высокого уровня учености. Первая фиксация документальных данных и начало изучения устройства средневековых медресе относится именно к этому периоду. Иногда, впрочем, ретроспективные данные того времени – конструкт, легендарный, преувеличенно положительный контраст современному исследователям конца XIX в. плачевному положению дел в этой сфере.
Хусаин Фаизханов формулирует это следующим образом: «В период могущества ислама, то есть в период арабских халифов, династии Саманидов и тюркских правителей династии Сельджукидов, в мусульманских городах было множество великих медресе, и в них преподавались все шариатские науки того времени, естественные и точные науки, гуманитарные науки» [24, с. 122–123]. Это было написано не позже 1866 г., а в 1905 г. не знавший о существовании этого документа Исмаил Гаспринский так описал средневековые медресе в своем эссе «Медресе в прошедшем и будущем»: «В III в. мусульманской эры [IX в. от Р.Х. – К. Ш.] школы достигли полнаго расцвета. Медресы той эпохи давали своим питомцам не только духовное, но и научное, философское образование. Все науки тогдашнего времени изучались одинаково охотно и обязательно. Обучение было даровое. Арабский язык, Коран с толкованиями, право, математика, история, философия, физика, химия, красноречие и изящная литература, а в некоторых медресах астрономия и медицина проходились как элементы «обязательных знаний». В этот то период мусульманский мир выдвинул многих ученых и мыслителей из разных народностей, оказавших значительное влияние на пробуждение Европы и расцвет в ней всяких знаний. Даровое обучение, свобода прений, свобода изследования составляли краеугольный камень системы медрес той эпохи; в стенах медресе говорила наука; ни голос толпы, ни голос халифа сюда не ходил, а, напротив, они прислушивались к голосу школы и науки. Начиная Бухарой на востоке до Кордовы на крайнем западе [выделено мной – К. Ш.] в медресе господствовал дух исследования, критики и любознательности…» [25, с. 1].
Однако важно еще раз отметить то, что данные высказывания, рассматриваемые в настоящее время в качестве источников, основаны на аналогии по современным авторам источникам или бытовавшим век назад преданиям. Ни Ибн Батутта [26, с. 91], ни Эвлия Челеби не оставили свидетельств о предметном расписании крымских медресе. Единственное уточнение принадлежит Челеби в упоминании Гезлёва: «Всего здесь два медресе – пристанищ учёных-толкователей. Но специальных отделений для изучения хадисов и стилей чтения Корана нет. Потому что учёных-знатоков хадисов и учёных-хафизов Корана нет» [1, с. 55]. Данное уточнение касается только Гезлёва.
В качестве прямого доказательства важности института духовного образования для политического правительства необходимо привести личное участие руководителей государств в процессе строительства и последующем финансовом обеспечении процесса функционирования медресе. Приведем примеры из указанных выше территорий, важные для реконструкции утраченных в крымских источниках деталей.
На других территориях для данного периода известны личные пожертвования ханов в медресе. Для территории округа Балха Северного Афганистана были найдены подробно опубликованные вакуфные грамоты Субханкули-хана Аштарханида (XVII в.) с украшением – выделением металлом имен ханов. Документ касается пожертвований земельных наделов в построенные ханом медресе. К сожалению, неопубликованными остались подобные грамоты XVI в., хранившиеся в 1970-х гг. в ЦГИА УзССР [27, с. 82]. Содержимое этих документов особенно важно потому, что аналогичные дарительные документы, например, вакуфное завещание Мухаммед-Гирея, в отношении Зынджирлы-медресе являются легендарными документами. Оригиналов их не предоставили уже барону О. А. Игельстрому. В Крыму традиция закрепления вакуфных земель за медресе после присоединения к Российской империи во многом строилась на устных, письменно закрепляемых без документального подтверждения русскими чиновниками, заверениях. Сохранившиеся же документы иных территорий могут дать представление о возможной структуре подобного документа, лексике и аргументации жертвователей.
В качестве примера приведем вакуфы бухарских медресе. Город Бухара был особенно знаменит своими медресе (сохранились медресе Улугбека и Мири-Араб). Многое для этого делали правители: еще в XII в. Арслан-хан Мухаммад Караханид передал под медресе факихов один из своих дворцов, одновременно создав для него вакуф. Сведения об этом известны из синхронного источника – «Истории Бухары» Мухаммада Наршахи и исследовались, как это зачастую происходит, по факту судебных прецедентов – позднейших попыток изъять у духовно-образовательного учреждения его подсобную территорию [28, с. 123; 29, с. 41]. Этот документ дает представление о том, как именно ханом передавались земли в вакуф: об аналогичном процессе, передаче лавки, дома и кофейни в вакуфную собственность медресе Менгли-Гирея (Зынджирлы-медресе) Гази-Гиреем в начале XVII в. мы знаем косвенно из кадиаскерских тетрадей [8, с. 37].
Аналогии показывают наличие общих для разных территорий спорных вопросов: так, для многих медресе возникает дискуссия о времени возникновения. В результате гиперкритического подхода исследователей зафиксированный в источниках XVII – XIX вв. после ремонта облик здания начинают считать первоначальным, а позднейшую дату – временем основания, отметая все «легендарные данные» местного населения. Так в Крыму происходит с Орта-медресе (постройка – или XVII, или XIX в., в зависимости от атрибуции медресе по строителю). Оформление современного архитектурного облика Дербентского медресе при Джума мечети VIII в. специалисты относят к широкому промежутку от XV до XIX вв. [30, с. 131].
Наиболее важной является задача реконструкции особенностей функционирования духовно-образовательных учреждений в общей системе средневекового восточного государства. Ее решение связано с прояснением вопросов внутреннего самоуправления медресе и их внешнего управления, то есть взаимосвязи с верховной духовной и светской властью. Отдельно следует отметить вопрос отношения местного населения к этим учебным заведениям.
Обучение в медресе было одним из способов обретения социального статуса жителями средневековых мусульманских городов и сел в соответствии с их уровнем образования, личными достижениями и профессиональными успехами. При этом вокруг медресе формировались и «педагогические династии» – мудеррис Зынджирлы-медресе мог быть сыном прошлого мудерриса Зынджирлы-медресе и братом мудерриса медресе бахчисарайского Ханского дворца. Однако высший уровень, которого мог достигнуть выпускник медресе, менялся в зависимости от исторического периода. В период Крымского ханства на территории полуострова высшей должностью, которую мог занять выпускник медресе, была должность муфтия или шейх-уль ислама одного из четырех мазхабов. Причем в Османской империи, как и в Кефинском эйялете, по свидетельству Эвлии Челеби, главным мазхабом был ханафитский; его же шейх-уль ислам стоял ближе всего к хану из рода Гиреев на совете. Но у самих крымских татар в быту, особенно в нормах питания, был распространен шафиитский мазхаб [1, с. 100]. В средневековье выпускник крымского медресе мог пройти путь от младшего сына большой семьи до политического и религиозного советника Османского султана. В период, когда территория бывших государственных образований с мусульманским населением попала под контроль Российской империи, для выпускника крымских медресе наилучшей возможностью стало вхождение в Таврическое магометанское духовное правление. Тем не менее, даже в этот период именно обучение в медресе давало возможность стать приближенным к управлению этно-конфессиональным объединением – крымскотатарским народом.
«Легитимность» медресе в глазах населения, которое отдавало туда своих детей в Средние века, базировалась во многом на статусе основателя, о значении имени которого уже упоминалось ранее в этом исследовании. Именно поэтому гробница высокопоставленного жертвователя (Инджибек-хатун, Мухаммед-Гирей хан), выдающегося первого мудерриса или мудреца становилась частью архитектурного ансамбля [12, с. 199], в состав которого входило медресе.
Духовный статус правителя в государствах с господством ислама в Средние века имел особую специфику. Крымское ханство функционировало сначала в подобии, а затем и непосредственно в структуре тюркско-исламской духовно-правовой системы. Высшую власть имел халиф – султан Османской империи. Однако он не исполнял функций религиозного лидера, выполняя представительские и секулярные функции, и создавая специальные должности и совещательные органы. В них вопросами веры занимались исламские учёные и религиозные лидеры, которые отдавали всю жизнь на изучение ислама. Так в Османской империи был титул шейх-уль-ислама («старейшина ислама»), возглавлявшего духовно-религиозную и законодательную ветвь власти, в противовес административной власти Великого визиря. Шейх-уль-исламу подчинялись все муфтии, богословы, священнослужители, судьи и преподаватели религиозных медресе Османской империи. Законодательная власть шейх уль-ислама осуществлялась посредством богословских заключений (фетв) по тому или иному вопросу [31, с. 62–64]. Наместник султана – глава Крымского ханства в управлении, по всей видимости, копировал данную систему, обладая при этом ограниченными по сравнению с султаном-халифом правами.
Но источников, которые отразили бы систему взаимодействия хана с мудеррисами, наличия «высшего мудерриса» до современных исследователей не дошло. Из кадиаскерских тетрадей мы видим, что мудеррисы деревень и городов на местах активно привлекались к шариатскому суду, участвуя в решении дел не только духовного, но и практического, бытового характера. Мудеррис, таким образом, становился лицом, чей авторитет для местных жителей однозначен, он учитель их детей, ему доверяют в этом главном – значит, его авторитет признается и в других делах.
Попытка восстановить систему управления духовным образованием дает следующие результаты. Можно утверждать, полагаясь на выводы Ф. Ф. Лашкова, что относительно вакуфов в период Крымского ханства в случае возникновения спорного вопроса решение принимал кадий [5, с. 39], мудеррис в таких случаях выступал как истец [32, с. 215]. При этом он же утверждает, что кадиаскерские суды (материалы которых, а не судов кадиев, единственно сохранились и активно используются в качестве источников) были второй судебной инстанцией, разбиравшей уже крупные поземельные споры [5, с. 40]. Таким же образом проходила процедура назначения или изменения вакуфов, за исключением ханских пожертвований: на основании аналогий следует полагать, что они устанавливались специальным документом [28, с. 123].
Вопросы назначения мудеррисов на место, равно как и их взаимоотношения между собой, переход с места на место не отражены в средневековых источниках (в отличие от источников периода Российской империи). Располагая крымские медресе по статусу, однозначно следует отметить Зынджирлы-медресе как самое богатое, столичное и известное. Остальные же медресе, по-видимому, были известны только жителям прилегающих населенных пунктов, целенаправленно ищущим образования у определенного учителя или желающим изучать определенный предмет. Например, так было с персидским языком, который изучался в тех учебных заведениях, где был знающий его преподаватель. «Мудерриса мудеррисов» по всей видимости не существовало, и в Диване и на высшем государственном уровне вопросами духовного образования в Крымском ханстве занимался муфтий, имеющий прямую связь со Стамбулом. Его обязанность, как зафиксировал Х. А. Монастырлы в 1890 г., в период Крымского ханства и после – «руководить народ в исполнении религиозных обязанностей, открывать школы для воспитания детей» [6, с. 71].
Таким образом, мудеррисы вместе с остальными выпускниками медресе формировали то сословие улемов, на которое опиралась ханская власть при принятии политических и управленческих решений, и с которым консультировалась по духовным вопросам.
Важность этого духовного сословия зафиксирована следующим образом: в обращении к населению при опубликовании фирмана хан упоминает мудеррисов: «Да будет известно начальникам правой и левой руки, стотысячниками, десятитысячникам, бекам, городским начальникам, кадиям, муфтиям и мюдерисам…» [33, с. 88]. Источник отведения такой важной роли мусульманским духовным лицам можно искать в титулатуре жалованных грамот золотоордынских ханов XIV в., где сразу после представителей высшей и местной власти называются кадии, муфтии, шейхи-мишайиты и суфии [22, c. 280, 285, 287, 310, 314].
Интересным и дискуссионным является вопрос о том, к какой категории обязательного относилось строительство медресе для ханов и следующих их примеру подданных. Кроме строительства, хан впоследствии мог еще участвовать в жизни обучающихся: в конце истории Крымского ханства в Орта-медресе хан иногда присылал 26–30 левов на награды для сохт-учеников [34, л. 12]. Вероятнее всего, благотворители опирались на хадисы: «Кто построит мечеть, Аллах построит тому дом в Раю» (по аль-Бухари и Муслиму) и «тому, кто построит мечеть, даже размером с гнездо куропатки, Всевышний построит дом в Раю» (по Ибн Хиббану и аль-Баззара). Также традиционной опорой для благотворительности до сих пор служит 18 аят суры Тавба: «Оживляет мечети Аллаха (только) тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, совершал молитву, давал обязательную милостыню и не боялся (никого), кроме Аллаха. И такие обязательно будут из (числа) идущих (истинным) путем!» (9:18) [35].
Говоря о перспективах затронутой темы, необходимо отметить, что неисследованной в должной степени остается система суфийских поселений, суфийское миссионерство и, в частности, суфийские школы, соотнести которые с медресе возможно, но с учетом их специфики. Именно суфизму, основанию странствующими отшельниками поселений и обучению там в неформальной обстановке поколений учеников приписывают успешность восприятия исламской культуры населением Крымского ханства в XIV в. [36, с. 27–29]. Эти усилия также имели поддержку хана: Мухаммед Риза называет суфийские монастыри Колеч, Кача, Чуюнчи и Ташлы «четырьмя столпами государственного трона и блюстителями ока правительственных дел» [37, с. 32–33].
Подводя итоги, следует отметить, что медресе в составе городских центров (Солхат и Бахчисарай) и мусульманских духовных центров в них (имаретов и куллие) стали фактором успешной политики укоренения норм шариата и исламской культуры среди населения Крымского улуса. Духовные учебные заведения второго уровня и воспитанные в них ученики способствовали сакрализации ханской власти Гиреев. При учете множества специфических факторов, делающих систему неоднородной, можно все же говорить о местном самоуправлении и народной воле в избрании мудеррисов по примеру избрания имама в мечети. На основании имеющихся данных следует предположить руководящую роль муфтия над всеми мудеррисами средневековых крымских медресе.
- Эвлия. Книга путешествия. Крым и сопредельные области: извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века. – 2-е изд.: испр. и доп. / Пер., вступ. ст., комм. Е. В. Бахревского. – Симферополь: Доля, 2008. – 272 с.
Evliya. Kniga puteshestviya. Krym i sopredel’nye oblasti: izvlecheniya iz sochineniya turetskogo puteshestvennika XVII veka. – 2-e izd.: ispr. i dop. / Per., vstup. st., komm. E. V. Bakhrevskogo. – Simferopol’: Dolya, 2008. – 272 s. - Abdullah A. The Place of Isnad in Islamic Education: Demystifying «Tradition» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.academia.edu/28440537/The_Place_of_Isnad_in_Islamic_Education_Demystifying_Tradition_?source=swp_share (25.03.2025).
- Отчет об археологических исследованиях на территории загородного дворца крымских ханов Ашлама-Сарай (Бахчисарайский район Республики Крым) в 2016 г. // НА ИАК РАН. Ф. 0–1. Оп. 1. Д. 2014. Л. 15.
Otchet ob arxeologicheskix issledovaniyax na territorii zagorodnogo dvorcza kry`mskix xanov Ashlama-Saraj (Baxchisarajskij rajon Respubliki Kry`m) v 2016 g. // NA IAK RAN. F. 0–1. Op. 1. D. 2014. L. 15. - Миннегулов Х. Ю. Художественное своеобразие стихотворений Ашык Умера // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. Филология и культура. – 2013. – № 1. – С. 155–158.
Minnegulov X. Yu. Xudozhestvennoe svoeobrazie stixotvorenij Ashy`k Umera // Vestnik Tatarskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Filologiya i kul`tura. – 2013. – № 1. – S. 155–158. - Вторая учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии в Бахчисарай и его окрестности – Салачик, Успенский скит, Кыркор (Чуфут-Кале), Тепе-Кермен, Качи-Кальен, Эски-Кермен, Черкес-Кермен, Мангуп-Кале и Сюрень / Сост. А. Н. Попов. – Симферополь: Тавр. губ. тип., 1888. – 131 с.
Vtoraya uchebnaya e`kskursiya Simferopol`skoj muzhskoj gimnazii v Baxchisaraj i ego okrestnosti – Salachik, Uspenskij skit, Ky`rkor (Chufut-Kale), Tepe-Kermen, Kachi-Kal`en, E`ski-Kermen, Cherkes-Kermen, Mangup-Kale i Syuren`/ Sost. A. N. Popov. – Simferopol`: Tavr. gub. tip., 1888. – 131 s. - Третья учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии: Симферополь / Cост. Ф. Ф. Лашков. – Симферополь, 1890. – 256 с.
Tret`ya uchebnaya e`kskursiya Simferopol`skoj muzhskoj gimnazii: Simferopol`/ Sost. F. F. Lashkov. – Simferopol`, 1890. – 256 s. - Тунманн И. Крымское ханство / Пер. с нем. изд. 1784 г. Н. Л. Эрнста, С. Л. Белявской. – Симферополь: Таврия, 1991. – 92 с.
Tunmann I. Kry`mskoe xanstvo / Per. s nem. izd. 1784 g. N. L. E`rnsta, S. L. Belyavskoj. – Simferopol`: Tavriya, 1991. – 92 s. - Зайцев И. В. Рукописи медресе Зынджырлы и его первоначальное название // Исламское образование в Крыму: исторические вехи и пути возрождения: cб. матер. междунар. науч.-практ. конф., посв. 515-летию Зынджырлы медресе и памяти его основателя Менгли Герай хана, Ялта, 10–12 окт. 2015 г. / Совет министров Республики Крым, Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь и др.; ред. коллегия: А. Исмаилов и др. – Ялта: Терджиман, 2015. – С. 36–42.
Zaitsev I. V. Rukopisi medrese Zyndzhyrly i ego pervonachal’noe nazvanie // Islamskoe obrazovanie v Krymu: istoricheskie vekhi i puti vozrozhdeniya: cb. mater. mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posv. 515-letiyu Zyndzhyrly medrese i pamyati ego osnovatelya Mengli Gerai khana, Yalta, 10–12 okt. 2015 g. / Sovet ministrov Respubliki Krym, Dukhovnoe upravlenie musul’man Respubliki Krym i g. Sevastopol’ i dr.; red. kollegiya: A. Ismailov i dr. – Yalta: Terdzhiman, 2015. – S. 36–42. - Изучайте крымскотатарский язык: пособие для начинающих в 2-х частях. Т. 2 / Сост. С. М. Усеинов. – Симферополь: Таврия, 1991. – 203 с.
Izuchajte kry`mskotatarskij yazy`k: posobie dlya nachinayushhix v 2-x chastyax. T. 2 / Sost. S. M. Useinov. – Simferopol`: Tavriya, 1991. – 203 s. - Зиливинская Э. Д. Медресе и ханака в Золотой Орде (по письменным источникам и археологическим данным) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2011. – № 2. – С. 129–151.
Zilivinskaya E`. D. Medrese i xanaka v Zolotoj Orde (po pis`menny`m istochnikam i arxeologicheskim danny`m) // Problemy` istorii, filologii, kul`tury`. – 2011. – № 2. – S. 129–151. - Вайнберг Б. И., Костин Г. С. Гоклен-медресе // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. – М., 1958. – Вып. XXX. – С. 100–109.
Vajnberg B. I., Kostin G. S. Goklen-medrese // Kratkie soobshheniya Instituta e`tnografii AN SSSR. – M., 1958. – Vy`p. XXX. – S. 100–109. - Хмельницкий С. Г. Последний раз о медресе Ходжа Машад // История материальной культуры Узбекистана. – Самарканд: Регистан, 1996. – Вып. 27. – С. 191–200.
Xmel`niczkij S. G. Poslednij raz o medrese Xodzha Mashad // Istoriya material`noj kul`tury` Uzbekistana. – Samarkand: Registan, 1996. – Vy`p. 27. – S. 191–200. - Лебон Г. История арабской цивилизации / Науч. ред. А. А. Филиппов; пер. с фр. Т. В. Сальниковой. – Минск, 2009. – 697 с.
Lebon G. Istoriya arabskoj civilizacii / Nauch. red. A. A. Filippov; per. s fr. T. V. Sal`nikovoj. – Minsk, 2009. – 697 s. - Земенко В. И., Юркина Ю. А. Дом Мудрости: от переводческого до научного центра // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: «Studis historica juvenum». – 2009. – № 1. – С. 108–112.
Zemenko V. I., Yurkina Yu. A. Dom Mudrosti: ot perevodcheskogo do nauchnogo centra // Vestnik nauchnoj associacii studentov i aspirantov istoricheskogo fakul`teta Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya: «Studis historica juvenum». – 2009. – № 1. – S. 108–112. - Козем Б. Х. Возникновение и принципы организации учебных центров – Низамийи в эпоху сельджукидов // Молодой ученый. – 2014. – № 6. – С. 603–605.
Kozem B. X. Vozniknovenie i principy` organizacii uchebny`x centrov – Nizamiji v e`poxu sel`dzhukidov // Molodoj ucheny`j. – 2014. – № 6. – S. 603–605. - Якубовский А. Ю. Рассказ Ибн-ал-Биби о походе малоазийских турок на Судак, половцев и русских в начале XIII в.: черты из торговой жизни половецких степей // Византийский временник. – 1928. – Т. 25. – С. 53–76.
Yakubovskij A. Yu. Rasskaz Ibn-al-Bibi o poxode maloazijskix turok na Sudak, polovcev i russkix v nachale XIII v.: cherty` iz torgovoj zhizni poloveczkix stepej // Vizantijskij vremennik. – 1928. – T. 25. – S. 53–76. - Орлов В. В. Медресе, мечеть и султанский дворец в маринидском Марокко (XIII–XV века): особенности идейно-культурного взаимодействия // Восхваление: Исааку Моисеевичу Фильштинскому посвящается / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки; науч. ред. и сост. В. А. Кузнецов. – М.: Ключ-С, 2008. – С. 315–338.
Orlov V. V. Medrese, mechet` i sultanskij dvorecz v marinidskom Marokko (XIII–XV veka): osobennosti idejno-kul`turnogo vzaimodejstviya // Vosxvalenie: Isaaku Moiseevichu Fil`shtinskomu posvyashhaetsya / Moskovskij gos. un-t im. M. V. Lomonosova, In-t stran Azii i Afriki; nauch. red. i sost. – V. A. Kuzneczov. – M.: Klyuch-S, 2008. – S. 315–338. - Резюме «Истории» Тохта Бая / Транcкр., пер. на рус. яз. Н. Сейитяхъя // Научный бюллетень (Орган НИЦ КГИПУ). – 2002. – № 2. – С. 3–8.
Rezyume «Istorii» Toxta Baya / Tranckr., per. na rus. yaz. N. Sejityax«ya // Nauchny`j byulleten` (Organ NICz KGIPU). – 2002. – № 2. – S. 3–8. - Спивак И. А. О новых тенденциях в переводах текстов Ибн ‘Абд аз-Захира // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – 2021. – № 26. – С. 673–691.
Spivak I. A. O novy`x tendenciyax v perevodax tekstov Ibn ‘Abd az-Zaxira // Materialy` po arxeologii, istorii i e`tnografii Tavrii. – 2021. – № 26. – S. 673–691. - Крикун Е. В. Памятники Крымскотатарской архитектуры (XIII – XX вв.). – Симферополь, 1998. – 112 с.
Krikun E. V. Pamyatniki Kry`mskotatarskoj arxitektury` (XIII – XX vv.). – Simferopol`, 1998. – 112 s. - Крамаровский М. Г. Солхат и Амасья в XIV в. К итогам археологического изучения комплекса медресе и мечети Узбека в г. Крым (Старый Крым) // Проблемы истории архитектуры: Тез. докл. Всесоюзн. науч. конф. / ВНИИ теории архитектуры и градостроительства; сост. А. А. Воронов и др. – Суздаль, 1991. – С. 124–127.
Kramarovskii M. G. Solkhat i Amas’ya v XIV v. K itogam arkheologicheskogo izucheniya kompleksa medrese i mecheti Uzbeka v g. Krym (Staryi Krym) // Problemy istorii arkhitektury: Tez. dokl. Vsesoyuzn. nauch. konf. / VNII teorii arkhitektury i gradostroitel’stva; sost. A. A. Voronov i dr. – Suzdal’, 1991. – S. 124–127. - Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. – М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1941. – Т. 2. – 308 с.
Tizengauzen V. G. Sbornik materialov, otnosyashhixsya k istorii Zolotoĭ Ordy`. – M.; L.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1941. – T. 2. – 308 s. - Шульман К. Д. Мусульманские средневековые надгробные памятники Крыма как источник сведений о значимости роли медресе в крымском обществе // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – 2024. – № 29. – С. 404–414.
Shul`man K. D. Musul`manskie srednevekovy`e nadgrobny`e pamyatniki Kry`ma kak istochnik svedenij o znachimosti roli medrese v kry`mskom obshhestve // Materialy` po arxeologii, istorii i e`tnografii Tavrii. – 2024. – № 29. – S. 404–414. - Фаизханов Х. Высшее медресе / Под ред. Д. В. Мухетдинова. – М.: ИД «Медина», 2023. – 152 с.
Faizxanov X. Vy`sshee medrese / Pod red. D. V. Muxetdinova. – M.: ID «Medina», 2023. – 152 s. - Медресе в прошедшем и будущем // Переводчик-Терджиман. – 1905. – 6 мая. – № 35. – С. 1.
Medrese v proshedshem i budushhem // Perevodchik-Terdzhiman. – 1905. – 6 maya. – № 35. – S. 1. - Сейдалиев Э. И. Золотоордынский Солхат-Крым в восточных средневековых письменных источниках // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Исторические науки. – 2016. – Т. 2 (68). – №. 4. – С. 88–96.
Sejdaliev E`. I. Zolotoordy`nskij Solxat-Kry`m v vostochny`x srednevekovy`x pis`menny`x istochnikax // Ucheny`e zapiski Kry`mskogo federal`nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Istoricheskie nauki. – 2016. – T. 2 (68). – №. 4. – S. 88–96. - Давыдов А. Д. Имения медресе Субханкули-хана в Балхе: по вакфной грамоте XVII в. // Краткие сообщения Института народов Азии. – 1960. – Т. 37: Афганский сборник. – C. 82–128.
Davy`dov A. D. Imeniya medrese Subxankuli-xana v Balxe: po vakfnoj gramote XVII v. // Kratkie soobshheniya Instituta narodov Azii. – 1960. – T. 37: Afganskij sbornik. – C. 82–128. - Чехович О. Д. Тяжба о вакфе медресе Арслан-хана // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования: Ежегодник. – 1978–1979. – С. 123–145.
Chexovich O. D. Tyazhba o vakfe medrese Arslan-xana // Pis`menny`e pamyatniki Vostoka. Istoriko-filologicheskie issledovaniya: Ezhegodnik. – 1978–1979. – S. 123–145. - Наршахи М. История Бухары / Пер. с перс. и предисл. Н. Лыкошин; под ред. В. В. Бартольда. – Ташкент: Типо-литография торгового дома «Ф. и Г. бр. Каменские», 1897. – 123 с.
Narshaxi M. Istoriya Buxary` / Per. s pers. i predisl. N. Ly`koshin; pod red. V. V. Bartol`da. – Tashkent: Tipo-litografiya torgovogo doma «F. i G. br. Kamenskie», 1897. – 123 s. - Хан-Магомедов С. О. Медресе комплекса Джума-мечети в Дербенте // Архитектурное наследство. – 1967. – № 16. – С. 128–136.
Khan-Magomedov S. O. Medrese kompleksa Dzhuma-mecheti v Derbente // Arkhitekturnoe nasledstvo. – 1967. – № 16. – S. 128–136. - Адыгамов Р. К. Исламское право в Османской империи // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – № 132. – С. 58–80.
Ady`gamov R. K. Islamskoe pravo v Osmanskoj imperii // Nauchny`j zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2017. – № 132. – S. 58–80. - Рустемов О. Д. Кадиаскерские книги Крымского ханства: исследования, тексты и переводы. – Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр им. И. Гаспринского», 2017. – 280 c.
Rustemov O. D. Kadiaskerskie knigi Kry`mskogo xanstva: issledovaniya, teksty` i perevody`. – Simferopol`: GAU RK «Mediacentr im. I. Gasprinskogo», 2017. – 280 c. - Лашков Ф. Ф. Исторический очерк Крымско-татарского землевладения (продолжение) // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – Симферополь: Таврическая губ. тип., 1896. – № 25. – С. 29–89.
Lashkov F. F. Istoricheskij ocherk Kry`msko-tatarskogo zemlevladeniya (prodolzhenie) // Izvestiya Tavricheskoj uchenoj arxivnoj komissii. – Simferopol`: Tavricheskaya gub. tip., 1896. – № 25. – S. 29–89. - Зынджырлы-медресе в Бахчисарае // НА ИАК РАН.Ф. Д-12. Оп.1. Д.119. Л.2–52.
Zy`ndzhy`rly`-medrese v Baxchisarae // NA IAK RAN.F. D-12. Op.1. D.119. L.2–52. - Коран / Пер. и комм. И. Ю. Крачковского. – Баку: Язычы, 1990. – 744 с.
Koran / Per. i komm. I. Yu. Krachkovskogo. – Baku: Yazy`chy`, 1990. – 744 s. - Ислам в Крыму: очерки истории функционирования мусульманских институтов / Е. В. Бойцова, В. Ю. Ганкевич, Э. С. Муратова, З. З. Хайрединова. – Симферополь: Элиньо, 2009. – 432 с.
Islam v Kry`mu: ocherki istorii funkcionirovaniya musul`manskix institutov / E. V. Bojczova, V. Yu. Gankevich, E`. S. Muratova, Z. Z. Xajredinova. – Simferopol`: E`lin`o, 2009. – 432 s. - Сейид Мухаммед Р. «Ассеб-ус-сейяр фи ахбар мулюк-ит-татар» / сочинение Сейида Мухаммеда Ризы, изд. Имп. Казан. ун-том, под набл. М. Казембека; [авт. предисл. Мирза Казембек]. – Казань: Тип. Ун-та, 1832. – 344 с.
Sejid Muxammed R. «Asseb-us-sejyar fi axbar mulyuk-it-tatar» / sochinenie Sejida Muxammeda Rizy`, izd. Imp. Kazan. Un-tom, pod nabl. M. Kazembeka; [avt. predisl. Mirza Kazembek]. – Kazan`: Tip. Un-ta, 1832. – 344 s.