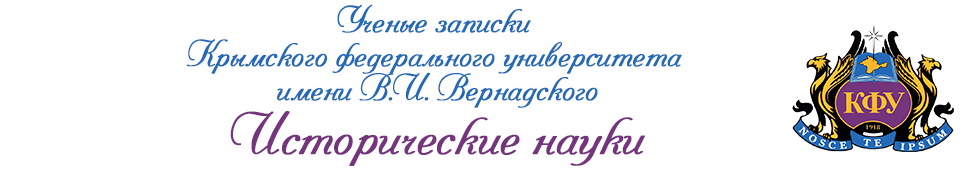БРЕСТСКИЙ МИР И ЗАКАВКАЗЬЕ: ВОЕННАЯ СИТУАЦИЯ И НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВЕСНОЙ 1918 г.
THE PEACE OF BREST AND TRANSCAUCASIA: THE MILITARY SITUATION AND THE BEGINNING OF THE FORMATION OF THE AZERBAIJANI ARMED FORCES IN THE SPRING OF 1918
JOURNAL: «SCIENTIFIC NOTES OF V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. HISTORICAL SCIENCE» Volume 11 (77), № 3, 2025
Publicationtext (PDF): Download
UDK: 94(47).084/94(479.24)
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS: Maksimov V. V., Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1741-2025-11-3-49-57
PAGES: from 49 to 57
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: History of Transcaucasia in the 20th century, World War I in the Caucasus, the October Revolution of 1917, the Treaty of Brest-Litovsk, the Transcaucasian Commissariat, the Transcaucasian Diet, and the Trabzon Conference.
ABSTRACT (ENGLISH):
The article examines the events of February-April 1918 in the Transcaucasian region, during the discussion of the terms of the Treaty of Brest-Litovsk between Soviet Russia and the Central Powers, which resulted in Russia’s withdrawal from World War I and the occupation of the national outskirts of the former Russian Empire. The national territories of the Transcaucasian region, which did not recognize the Bolshevik coup, faced the challenges of Bolshevization of the Caucasian Army, the weak military training of the Transcaucasian population, especially the Muslim population, and the ongoing World War. The Bolsheviks’ own military construction also faced internal ethnic conflicts in the Transcaucasian Sejm, which weakened the foreign policy position of the Transcaucasian region, which was hesitant to separate from Russia. The terms of the Bolsheviks’ Treaty of Brest-Litovsk further divided the Transcaucasian democracies and their representatives, but the military and political successes of the Young Turk Ottoman Empire accelerated the organization of the Azerbaijani Muslim armed forces and the subsequent dissolution of the Transcaucasian Federation and the declaration of an independent Azerbaijan Democratic Republic.
В России после октябрьского переворота было ликвидировано двоевластие, однако, в Закавказье противостояние большевистских Советов и формировавшихся национальных правительств продолжилось. При том, что Бакинская коммуна и правительство Азербайджанской демократической республики имели под властью свои собственные территории, говорить о сепаратизме в этом случае нельзя. Обе власти претендовали на представительство всего народа Азербайджана на всей его территории. Это было именно двоевластие, однако, в отличие от русского варианта с Временным правительством и Советами, центральные органы которых располагались в одном городе, и довольно долгое время (март – июль 1917 г.) даже в одном здании, Таврическом дворце Петрограда, Бакинская коммуна и АДР изначально антагонизировали как на политико-социальном, так и на военно-территориальном фронтах.
Национальные противоречия привели к распаду Закавказской Федерации и образованию на ее обломках трех новых государственных образований. Особенностью Азербайджана было то, что его титульная нация была мусульманской, и объявленная Февральской революцией демократизация означала, в том числе и свободу и равноправие религиозных направлений, что для азербайджанской нации означало преимущество мусульманства перед православием, защитницей и распространительницей которого официально объявляла себя Российская империя. Это новое положение многих в Азербайджане пугало и разъединяло. В определенном смысле слабость правительства АДР следовала также и из наличия двух идеологических оснований для развития своей зарождающейся государственности: религиозное и культурно-этническое (тюркское). Наличие же в Азербайджане значительного православного русского и христианского армянского населения делало процесс становления государственности чрезвычайно сложным и противоречивым процессом.
В результате, на политику как Бакинского совета, так и правительства АДР постоянно влияли внешние факторы: Советская Россия, Османская империя, великие европейские державы, входящие как в блок Антанта, так и в Центральный блок. Если учесть, что Первая мировая война еще продолжалась, то становление независимой АДР происходило в самых неблагоприятных для этого условиях.
18 февраля 1918 г. армии Германии, Австро-Венгрии открыли боевые действия на российской границе. Турецкая армия заняла 19 февраля Бейбурт, 23 февраля турецкая армия вошла в Трапезунд, после чего начались репрессии в отношении армянского и греческого населения, о чем сообщали даже германские источники. В начале марта турки подошли к Эрзеруму. В Трапезунде Карабекир провел четырехчасовые переговоры с местным Советом, признававшим большевиков, в результате чего, русские войска покинули город без боя [19, p. 34].
Одновременно турецкая дипломатия, рассчитывая на дальнейшие военные успехи, стала предлагать Закавказскому правительству принять участие в Брест-Литовских переговорах по примеру Украины. Однако грузинские и особенно армянские политики отклонили это предложение [15, p. 120]. По сообщению английского шпиона и дипломата майора Мак-Доненела, армянские лидеры получили от британского правительства 1 млн. рублей для организации вооруженных сил и войны с Турцией. Транш предполагал, что армяне будут препятствовать любым попыткам заключить сепаратный мир с Германией и Турцией [13, p. 52].
Тем временем, Германия к 24 февраля захватила Ревель, Минск, Псков, почти всю Украину, и 2 марта осуществила обстрел Петрограда. На фоне этого форменного разгрома турецкие дипломаты в Брест-Литовске получили из Стамбула поручение провести новый раунд переговоров со своими германскими союзниками, выдвинув требования не только передачи Турции территорий до границ 1877 г., но и предоставления полной независимости всем российским территориям с мусульманским населением, включая Казань, Оренбург, Туркестан и Северный Кавказ [21, s. 50]. Однако дело до этого не дошло, тем более, что германский министр иностранных дел фон Кюльманн резко ограничил турецкие претензии, заявив, что вопрос о границе 1877 г., особенно же о статусе Батуми, должен решаться отдельно Советской Россией и Османской империей и не должен включаться в повестку Бреста. Однако вывод русских войск с этих территорий немцы приветствовали.
Советской делегации в Брест-Литовске были предложены новые кабальные условия. Совнарком выразил протест германскому правительству, издал воззвание ко всем трудящимся [5, c. 106–107] и декрет «Социалистическое Отечество в опасности!» [4, c. 490–491], но принять германско-турецкие условия был вынужден. Советская Россия обязалась вывести свои силы из Восточной Анатолии и Персии и не иметь более одной пограничной дивизии в Закавказье до момента подписания окончательного мирного договора. Компенсации Турции договор не предусматривал.
Брестский мир стал первой военной и дипломатической победой Османской империи в войнах с Россией, начиная с 1711 г. Он вызвал бурю ликования в турецкой прессе и обществе. Турецкая политическая элита пребывала в эйфории. 17 марта 1918 г. немецкий дипломат Буше писал: «все турецкие политические партии в настоящий момент находятся под влиянием энтузиазма и выдвигают лозунги ультра-национализма и панисламистской победы» [19, p. 27]. Критика Бреста, которую вели лишь некоторые политики, шла с позиций еще больших территориальных претензий. Так, выходец из русского Азербайджана депутат Меджлиса Ахмед Ага-оглу заявлял, что Оттоманское государство не приложило достаточно сил, чтобы добиться права на самоопределения для закавказских мусульман. В ответ на это заявление Энвер, выступая в парламенте, заявил, что Декрет Советов о праве наций на самоопределение и дипломатические победы турок в Брест-Литовске создали все условия для российских мусульман, чтобы обратиться к Османскому правительству с просьбой о поддержке своих стремлений к независимости [10, c. 129].
3 марта 1918 г. Брестский мир с большевиками был все же заключен. Армения, по его условиям, была обязана «распустить армянские четы, состоящие из турецких и русских подданных, которые находятся как в России, так и в оккупированных турецких провинциях и окончательно уволить названные четы» [5, c. 200], резко протестовала против условий мира, и под влиянием ее представителей от имени Заксейма в Петроград был направлен официальный протест, в котором утверждалось, что, принятый без его согласия мир, не будет рассматриваться им как юридически обязательный [9, c. 255].
При этом, подготовка к переговорам о сепаратном мире с Турцией велась полным ходом. Попытки представителей Антанты предложить лидерам Сейма денежную помощь для «…формирования новых войсковых частей и усиления существующих, ставя при этом главным условием своей материальной поддержки продолжение войны с Турцией и оккупацию турецких областей» [7, c. 39], встретили резкий отпор, в первую очередь, азербайджанских членов Сейма. «Фракция «Мусавата» в Сейме обратиться с официальным запросом следующего содержания:
1) Известно ли Закавказскому правительству и комиссару по иностранным делам, что английские и французские военные штабы в лице своих агентов всячески препятствуют делу заключения мира с Турцией, открыто ведя в Тифлисе агитацию за продолжение войны.
2) Если известно, какие принимаются меры к пресечению вмешательства иностранных держав во внутренние дела Закавказского правительства» [3, c. 74].
В связи с этой позицией мусульманской фракции Сейма, следует упомянуть о поездке азербайджанской делегации «илхагистов» в Мосул в ноябре 1917 г. В начале 1918 г. члены этой военной «вернулись в Мосул с сообщением, что условия для военных действий в Закавказье благоприятны» [22, s. 55]. В результате 16 февраля турецкий военный министр Энвер-паша, который полагал возможным союз Турции и Азербайджана по примеру Австро-Венгерской «Двуединой» империи, издал приказ о формировании Тегеранской северной группы, целью которой была бы помощь мусульманскому населению Кавказа, Дагестана, Туркестана и России.
В Азербайджан был направлен подполковник Нури-бей и целый штаб офицеров для организации среди мусульман вооруженных отрядов, которые должны были составить местную Армию Ислама. Нури-бею для большего впечатления на азербайджанских политиков и население было сразу же присвоено звание генерала [16, p. 147]. Тем временем основные силы турецкой армии были заняты возвращением территорий, захваченных Российской империей в ходе мировой войны.
Комиссия Сейма по выработке условий мира с Турцией начала работу 1 марта 1918 г. В этот день по инициативе партии «Мусават» было проведено совещание представителей всех парламентских групп Сейма. На нем Н. бек Усуббеков объявил о том, что на мусульман нельзя было рассчитывать в борьбе против Турции. «Турция, – сказал Усуббеков, – признает этот факт и уже дала нам понять, что примет во внимание наши устремления» [20, p. 121].
Далее началось формирование состава делегации, во время чего произошло подписание Россией Брестского мира, спутавшее многие карты закавказских лидеров и внесшее в их ряды раскол. Так, условия мира России с Турцией по факту дезавуировали выпущенный ранее Советами декрет «О Турецкой Армении», вызвавший резкое возмущение турецкого правительства. Более того, Россия обязалась по договору передать Турции значительные территории Закавказья, на которые рассчитывали все три нации. «Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейшее очищение провинций Восточной Анатолии н их упорядоченное возвращение Турции. Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно очищаются от русских войск. Россия не будет вмешиваться в новую организацию государственно-правовых и международно-правовых отношений этих округов…» [5, c. 121].
Договор касался также судьбы Кавказской армии. «Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию своей армии, включая и войсковые части, вновь сформированные теперешним правительством. Кроме того свои военные суда Россия либо переведет в русские порты и оставит там до заключения всеобщего мира, либо немедленно разоружит» [5, c. 122]. Более того, дополнительным соглашением с Турцией, Советы обязались «…демобилизовать и распустить армянские четы, состоящие из турецких и русских подданных, которые находятся как в России, так и в оккупированных турецких провинциях и окончательно уволит названные четы» [5, c. 200]. Этими положениями Брестского мира самостоятельность Закавказского правительства явно ставилась под вопрос. Закавказский Сейм направил в Брест-Литовск протест, в котором заявил, что «считает всякий договор, касающийся Закавказья и его границ, заключенный без его ведома и одобрения, лишенным международного значения и обязательной для себя силы» [6, c. 85].
На заседаниях Сейма, на которых обсуждались переговоры с Турцией, и в Стамбул было направлено предложение начать мирные переговоры между Закавказским правительством и Османской империей в Тифлисе, но турки имели свой план, согласно которому переговоры должны вестись в только что занятом войсками Карабекира Трапезунде [17, s. 303]. 7 марта 1918 г. делегация Закавказского Сейма в составе 45 человек отправилась в Трапезунд для переговоров с Турцией о мире. Отсутствие в составе закавказской делегации дипломатов привело к тому, что настойчивости турок она могла противопоставить уклончивость и упражнения в сглаживании собственных противоречивых заявлений.
При этом, кулуарно «прошли переговоры турецкой и азербайджанской делегаций, на которых последняя высказала мнение, что армянские и грузинские политики не хотят прерывать отношений с Россией…» [2, c. 143]. «В то время, как в среди закавказской делегации развернулись дебаты и обращения к Сейму, турки оставались непоколебимыми в своем утверждении того, что мир будет основываться на условиях Брест-Литовска» [11, c. 182].
Поскольку Сейм отказался признать условия Бреста, в то время, как Советское правительство согласилось на вывод своих войск из Батума, Карса и Ардагана, турецкие войска продолжили продвижение к границам брестской демаркации, несмотря на сопротивление войск закавказского правительства. По сути, это означало начало военных действий уже не с Россией, но с Закавказьем. Особенно тяжелым для закавказских лидеров была потеря Батума. Грузинский представитель Н. Жордания заявил, что Батум для Закавказья имеет то же значение, что Петроград для России и Измир (Смирна) для Османской империи.
10 марта 1918 г. турецкий командующий Вехиб-паша телеграфировал генералу Лебединскому, осуществлявшему командование «сборной» армией Закавказья и остатков российской Кавказской армии, предлагая эвакуировать все территории, обозначенные Брест-Литовским договором. Лебединский передал телеграмму в Трапезунд, делегатам будущей конференции, которые не смогли дать единодушного ответа. Чхеидзе направил Вехибу-паше телеграмму, в которой спрашивал, «следует ли рассматривать предложение об эвакуации… как нежелание Турецкого правительства вести мирные переговоры» [6, c. 86]. В ответ турки сообщили, что «мирная делегация из Константинополя в Трапезунд выехала» [6, c. 90]. 11 марта состоялось очередное заседание Сейма, посвященное турецким требованиям. На нем резко выявились противоречия мусульманской и грузинской фракций. Н. Жордания заявил: «…если нам будут диктовать турецкие властелины, то мы должны будем проститься с революцией и свободой» [6, c. 95]. Представитель мусульманской фракции Ф. Хан-Хойский возражал и сказал, что в турецких требованиях «нельзя не усмотреть известной логической последовательности» [6, c. 99].
К середине марта «турецкие войска заняли важнейший стратегический пункт – крепость Эрзерум» [10, c. 128], завоеванную русскую войсками в результате героического наступления зимой 1916 г. Оборону Эрзерума вели, в основном, армянские бригады из состава войск Мореля (более 5500 человек) и эрзерумского гарнизона в количестве до 3500 солдат, однако восстание городских жителей-мусульман не позволила армянам использовать оборонительный потенциал крепости с 400 орудиями. Армянские части, которыми командовал знаменитый армянский «четник» Андраник Озанян, отступили, потеряв 500 человек убитыми, и турецкие войска 36-й дивизии, численностью меньше 5 000 человек при 26 орудиях, ввиду отсутствия сопротивления, вошли в Эрзерум, в котором помимо вооружения, находились большие запасы обмундирования и продовольствия, рассчитанные на месячное снабжение нескольких дивизий.
Позднее Андраник оправдывал это поражение, поставившее крест на мечтах армян об объединении русских и турецких территорий, тем, что турецкие армяне неорганизованные и недисциплинированные, предпочли разбежаться по домам [14, p. 346]. Турки продолжили успешное наступление и заняли 18 марта Карс, а 19 марта – Ардаган, выйдя к 24 марта к русской границе 1914, где приостановили наступление.
К этому времени, 14 марта 1918 г. в Трапезунде все же началась мирная конференция, на первом заседании которой турецкие представители потребовали от закавказской делегации «точную декларацию относительно сущности, формы, политической и административной организации республики» [8, c. 34–35]. На следующем заседании делегаты Закавказья заявили, что «с момента большевистского переворота на территории Закавказья прекратилось действие центральной Российской власти и возникло новое самостоятельное правительство…» [8, c. 40].
По турецким вопросам о политическом устройстве своего государства делегация высказалась в терминах вероятностных: «…о форме правления закавказского государства, которая вырабатывается сеймом, есть основание думать, что будет установлена демократическая федеративная республика» [1, c. 37].
Турки этим заявлением о как бы государственном статусе Закавказья удовлетворились, выговорив, впрочем, для главы своей делегации статус постоянного председателя заседаний конференции. Однако во время проведения дебатов о предварительных условиях мира, делегаты не пришли к общему решению. Грузинские и армянские представители Закавказья не считали для себя обязательным исполнять решения Брестского договора Советской России с Германией и Турцией. Азербайджанские члены делегации считали возможным ради мира пойти на все уступки туркам. Особенно резко в кулуарах конференции пикировались член Азербайджанского национального Совета Мехмет Гаджинский лидер дашнаков Александр Хатисян. Хатисян выдвинул требование вернуть в пределы Турецкой Армении 400 000 армянских беженцев, рассредоточенных по всему Кавказу, ставя это условием признания Брест-Литовских договоренностей. Однако Рауф-бей на это послание даже не отреагировал [18 с. 471–472].
Бакинские большевики 15 марта 1918 г. ратифицировали Брест-Литовский договор на IV Всероссийском Съезде Советов, а также издали протест против заявления закавказской делегации о его неисполнении. В свою очередь, Рауф-бей заявил, что Закавказье не имеет прав отвергать Брест-Литовск. Делегаты от Азербайджана, в свою очередь, предлагали принять турецкие требования, и с этого момента азербайджанцы, включая «Иттихад», сделались наиболее ярыми сторонниками независимости Закавказья. Характерной была эволюция взглядов панисламистов: хотя они, по-прежнему, были настроены против национализма, они подошли к пониманию отсоединения от России скорее как ступени на пути к возможному союзу с Турцией, чем как шаг к азербайджанской государственности. Разногласия в закавказской делегации привели к перерыву в заседаниях Трапезунской конференции до прояснения совместной позиции Закавказья.
26 марта 1918 г. Нури-бей издал приказ о начале операции в направлении «Elviye-i Selase», т.е. Карса, Ардагана и Батумом. Однако глава турецкой делегации в Трапезунде Рауф-бей считал этот шаг преждевременным, поскольку он восстанавливал против Турции не только армян, но и грузин. Он полагал важным в настоящий момент добиться хоть какого-то единства закавказских делегатов, поэтому, по его инициативе 29 марта 1918 г. совещания Трапезунской конференции были продолжены. Рауфа поддержал и Вехиб-паша, который предупреждал Энвера, настаивавшего на немедленном начале выступления к границам 1877 г., о трудностях со снабжением, особенно ввиду вероятного грузино-армянского антитурецкого альянса. Энвер резко ответил генералу, что Карс, Ардаган и Батум – это награда турецкому народу за его страдания, понесенные в ходе трех лет войны, и лишать его этой награды – преступление. Вехиб вскоре был смещен со своей должности и покинул Кавказ. «26 марта на заседании мусульманских фракций Сейма было принято решение отстаивать на Трапезундской конференции решение о принятии турецкого ультиматума» [12, c. 62].
На совещании закавказской делегации 1 апреля 1918 г. Х. Хасмамедов выступил с заявлением, что «…если армянский и грузинский народы чувствуют за собою силу и возможность, то пусть начинают войну на свой риск и ответственность, азербайджанцы в этой войне участвовать не будут» [3, c. 76]. Тем не менее, в тот же день, 1 апреля 1918 г. «на Сейме было внесено предложение о создании военной коллегии по поводу возможной войны с Турцией и введения чрезвычайного положения» [11, c. 183]. По поводу принципа комплектования армии возникли дискуссии, большинство отвергло национальный принцип и высказалось за мобилизацию по территориальному принципу. Кроме того, была направлена телеграмма в Москву, в которой члены социал-демократической фракции Сейма обратились к большевистскому правительству с просьбой оказать помощь «в борьбе с войсками турецкого султана» [6, c. 187]. Лидеры «Мусават» обвинили грузинских меньшевиков в том, что они навлекают большевистскую, «казацкую» опасность.
Ввиду напряженной обстановки, связанной, помимо прочего, с армяно-азербайджанскими столкновения в Эриваньской губернии, а также началом вооруженной экспансии Красной Гвардии Бакинской Коммуны, в Азербайджане началось формирование вооруженных сил, призванных обеспечивать гражданский порядок. В районах наступления турецких сил уже действовали «мусульманские партизаны, но фактически из мусульманских вооруженных сил, принявших участие в войне, в Баку находился «Татарский конный полк» Дикой дивизии, в состав которого входили как азербайджанцы, так и горцы Северного Кавказа. Численность полка к началу 1918 г. составляла менее 400 человек. Однако его выходу из города препятствовали ВРК и большевистская власть. Более того, поскольку полк имел репутацию «контрреволюционного», неоднократно вставал вопрос о его разоружении, что, в частности, привело к трагическим событиям конца марта 1918 г.
Набор войск производился в крупных городских центрах, остававшихся под властью Сейма – Гяндже, Шемахе, Кубе, Ленкорани, Кюрдамире. В Бакинской кадетской школе был произведен набор будущих мусульманских офицеров. К середине апреля 1918 г. Национальный Совет сформировал первое действующее подразделение армии в 1000 штыков. Командующим был назначен князь Магалов, начальником штаба – Г. Салимов.
- Аркомед С. Т. Материалы по истории отпадения Закавказья от России. – Тифлис: Госизд-во Грузии, 1931. – 111 с.
Arkomed S. T. Materialy po istorii otpadeniya Zakavkaz’ya ot Rossii. – Tiflis: Gosizdatel’stvo Gruzii, 1931. – 111 s. - Багирова И. Закавказский Сейм: несостоявшееся объединение Центрального Кавказа // Кавказ & Глобализация. – 2008. – Т. 2, вып. 2. – С. 140–141.
Bagirova I. Zakavkazskij Sejm: nesostoyavsheesya ob»edinenie Central’nogo Kavkaza // Kavkaz & Globalizaciya. – 2008. – T. 2, vyp. 2. – S. 140–141. - Балаев А. Азербайджанское национальное движение в 1917–1918 гг. – Баку: Елм, 1998. – 279 с.
Balaev A. Azerbajdzhanskoe nacional’noe dvizhenie v 1917–1918 gg. – Baku: Elm, 1998. – 279 s. - Декреты Советской власти. Т. 1: 25 октября 1917 г. – 16 марта 19118 г. – М.: Госполитиздат, 1957. – 626 с.
Dekrety Sovetskoj vlasti. T. 1: 25 oktyabrya 1917 g. – 16 marta 19118 g. – M.: Gospolitizdat, 1957. – 626 s. - Документы внешней политики СССР. – М.: Госполитиздат, 1959. – Т. 1. – 772 с.
Dokumenty vneshnej politiki SSSR. – M.: Gospolitizdat, 1959. – T. 1. – 772 s. - Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис: типография Правительства Грузинской Республики, 1919. – 512 с.
Dokumenty i materialy po vneshnej politike Zakavkaz’ya i Gruzii. Tiflis: tipografiya Pravitel’stva Gruzinskoj Respubliki, 1919. – 512 s. - Закавказский Сейм. Стенографический отчет. 16 (29) февраля 1918 г. – Тифлис, 1918. – 936 с.
Zakavkazskij Sejm. Stenograficheskij otchet. 16 (29) fevralya 1918 g. – Tiflis, 1918. – 936 s. - Из истории иностранной интервенции в Армении в 1918 г.: документы. – Ереван: изд-во Ереванского ун-та, 1970. – 249 с.
Iz istorii inostrannoj intervencii v Armenii v 1918 g. Dokumenty. – Erevan: izd-vo Erevanskogo un-ta, 1970. – 249 s. - Казимзаде Ф. Борьба за Закавказье. – Баку: CA&CC Press, 2010. – 328 с.
Kazimzade F. Bor’ba za Zakavkaz’e. – Baku: CA&CC Press, 2010. – 328 s. - Михайлов В. В. К вопросу о политической ситуации в Закавказье на заключительном этапе Первой мировой войны // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета Сер. 2. Исторические науки.– 2006. – Вып. 4. – С. 125–137.
Mihajlov V. V. K voprosu o politicheskoj situacii v Zakavkaz’e na zaklyuchitel’nom etape Pervoj mirovoj vojny // Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2006. – Ser. 2. Istoricheskie nauki. – Vyp. 4. – S. 125–137. - Михайлов В. В. Османская интервенция первой половины 1918 г. и отделение Закавказья от России // 1918 год в судьбах России и мира: развертывание широкомасштабной Гражданской войны и международной интервенции: сб. матер. науч. конф. 28–29 окт. 2008 г. – Архангельск: Изд-во «Солти», 2008. – С. 181–187.
Mihajlov V. V. Osmanskaya intervenciya pervoj poloviny 1918 g. i otdelenie Zakavkaz’ya ot Rossii // 1918 god v sud’bah Rossii i mira: razvertyvanie shirokomasshtabnoj Grazhdanskoj vojny i mezhdunarodnoj intervencii. Sb. materialov nauchnoj konferencii. 28–29 oktyabrya 2008 g. – Arhangel’sk: Izd-vo «Solti», 2008. – S. 181–187. - Михайлов В. В. Особенности политической и национальной ситуации в Закавказье после октября 1917 года и позиция мусульманских фракций закавказских правительств (предыстория создания первой независимой Азербайджанской Республики) // Клио.– 2009 – № 3(46). – С. 59–65.
Mihajlov V. V. Osobennosti politicheskoj i nacional’noj situacii v Zakavkaz’e posle oktyabrya 1917 goda i poziciya musul’manskih frakcij zakavkazskih pravitel’stv (predystoriya sozdaniya pervoj nezavisimoj Azerbajdzhanskoj Respubliki) // Klio.– 2009 – № 3(46). – S. 59–65. - Çaglayan K. T. British Policy Towards Transcaucasia 1917–1921. Thesis of DPh Dissertation. – Edinburg: Univ. of Edinburg, 1997. – 261 p.
- Chalabian A. General Andranik and the Armenian Revolutionary Movement. – Melrose: Antranig Chalabian, 1988. – 588 p.
- Hovannisian R Armenia: On the Road to Independence 1918. – Berkeley: University of California Press,1967. – 364 p.
- Isgenderli A. Realities of Azerdaijan. 1917–1920. – XLibris Corporation, USA, 2011. – 236 p.
- Kılıç Selami. Brest-Litovsk Barısı Sonrası Kafkasya’daki Bazı Askeri ve Siyasi Gelismeler // Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri I – XIX. ve XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar. – Ankara, 2003. – S. 281–312.
- Kurat Akdes Nimet. Türkiye ve Rusya. – Ankara: Ankara Billkent Üniversitesi, 1970. – 755 s.
- Murgul Yalcin. Baku Expedition of 1917–1918. – Ankara: Ankara Billkent University, 2007. – 257 p.
- Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008. – 272 p.
- Türkgeldi Emin Ali. Brest-Litowsk Konferansı Hatıraları // Belgelerle Türk Tarihi Dergisi. – March 1986. – №. 13. – S. 46–54.
- Yüceer Nasır. Birinci Dünya Savası’nda Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve Dagıstan Harekatı, Azerbaycan ve Dagıstan’ın Bagımsızlıgını Kazanması 1918. – Ankara: Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Baskanlıgı, 1996. – 201 s.